Лариса Фечина: «Я нашу клинику с полным правом готова назвать научно-практическим центром»
У Ларисы Фечиной цепкий взгляд врача, при этом — добрейшие лучистые глаза. В лице, манерах сквозят напряжение и тревога профессии, хотя она прячет их за докторской корректностью. Каждый день она вынуждена смотреть в глаза родителям смертельно больных детей и вдохновлять на профессиональные подвиги свою команду.
Идея лечить лейкозы у младенцев путем перепрограммировании опухолевых клеток пришла к ныне заслуженному врачу РФ, заместителю главного врача областной детской клинической больницы № 1 по онкологии и гематологии (Екатеринбург) Ларисе Фечиной в 2003 году. В 2006-м команда исследователей под ее руководством предложила новый метод российским коллегам. Мировая медицинская общественность оценила отечественное ноу-хау в 2009-м. По лечению младенческих лейкозов Центр детской гематологии и онкологии в Екатеринбурге имеет лучшие результаты в мире.
НЕ УШЛА
— Лариса Геннадьевна, в центр детской гематологии и онкологии и заходить-то страшно: больно смотреть на этих детей и их родителей… Как же здесь работать?
— Вакансий у нас нет: люди — первый для меня вопрос. Конечно, команда появилась не сразу. В 1985 году я впервые переступила порог детской больницы и планировала работать инфекционистом. В моем складе характера получать быстрые и хорошие результаты: пролечить ребенка неделю — он уже на ногах, и все счастливы. Но я пришла в тот момент, когда из детского гематологического отделения ушли все врачи. В те времена здесь работали по пять-шесть лет и уходили. Сказывался синдром психологического выгорания, профессиональной усталости: не могли больше видеть потери детей, страдания родителей.
Здесь тогда остался лишь один опытный врач — Ольга Попова, и та попала в больницу с тяжелым вирусным гепатитом. И вот три молодые девушки-доктора должны были как-то лечить умирающих детей, разговаривать с их родителями… Мы шли под окна больницы, где лежала наша наставница, и кричали: «Ольга Николаевна, вот этому ребеночку что на завтра назначить?.. А тому?». Так было, я вам клянусь! И не очень давно, всего 26 лет назад.
Месяца три я приходила домой и ревела. Я из врачебной семьи, медицинской династии. Папа был строг: «Не можешь — уходи». Но я уже не могла уйти с руин. А потом нам повезло: в начале 90-х границы открылись, в Россию приехала общественная благотворительная организация Care-Deutschland (в переводе — забота). Немцы решили помогать не продовольственными пайками, а улучшить то, что было хуже всего в нашей медицине. Детских онкологов страны собрали на международный симпозиум в Минск. Первое впечатление — империалисты врут, рассказывая о каких-то недостижимых результатах. У нас погибало восемь детей из десяти, а у них была обратная пропорция. Они рассказывали, что успех лечения в качественной диагностике, но ее на тот момент в России не было. И в очень интенсивном противоопухолевом лечении, однако нам казалось, что больные его не перенесут из-за высокой токсичности.
Осенью 1992 года к нам приехал известный немецкий детский онколог Фриц Ламперт. Посмотрел в наш допотопный монокулярный микроскоп и удивился: «Я ничего не вижу!». Это было время пустых полок в России, мыла по талонам, проблем с лекарствами. И следующий раз профессор приехал с царским подарком — микроскопом Carl Zeiss. А в мае 1993 года меня, новоиспеченную завотделением (мне тогда не было еще и тридцати), вдвоем с совсем молодой коллегой пригласили в Германию в университетскую клинику Гиссена на четырехмесячную учебу. В обычную детскую клинику, но с цитогенетическими и молекулярно-биологическими лабораториями, компьютерным томографом, отделением ядерной медицины, которая у нас только недавно начала развиваться. Мы там увидели, что наша специальность в мире считается высокотехнологичной и требует очень хорошей диагностики, совершенно отсутствующей в России. То есть мы поняли, что у нас ничего нет для лечения.
Из Германии я уехала с твердым намерением создавать такие лаборатории, посылать молодых специалистов учиться за рубеж — немецкая организация принимала на себя все расходы. Затем программа помощи закончилась. По предложению Ламперта, мы провели в Екатеринбурге благотворительный велопробег, собрали десятки тысяч немецких марок. Открыли на эти деньги первую цитогенетическую лабораторию. Мы хотели развивать технологии, двигаться вперед. В потемках не метались — в Германии и других странах видели, что и как надо делать. После Германии учились в Европе и США многие мои коллеги.
ПОПРОБОВАЛИ — ПОЛУЧИЛОСЬ
— Как вы развивались?
— Начали цитогенетические исследования, стали более глубоко разбираться в биологии опухоли. Благодаря этому у нас появилась смелость в принятии решений и внедрении протоколов — стандартных для Германии, но непривычно интенсивных для отечественной детской онкологии. Протокол — это законченный труд по изучению конкретного заболевания. В нем хронология мирового опыта лечения, анализ эффективности предыдущих результатов, обоснование программы, непосредственно схемы лечения, дозирования лекарств, все возможные осложнения, условия участия клиник и прочее. Такие протоколы можно проводить только кооперативно: врачи-исследователи должны сверять свои часы.
Затем, приобретя практический опыт лечения больных в рамках известных международных протоколов, увидели, что в мировой практике есть заболевания с менее успешным прогнозом. Например, лечение лейкозов у детей первого года жизни. Нам удалось создать собственный протокол MLL-Baby: по названию гена, определяющего уникальные биологические свойства младенческих лейкозов — Mixed Lineage Leukemia Gene. Плохие результаты лечения были следствием невероятно большого разнообразия перестроек этого гена при взаимодействии с многочисленными вариантами его партнерских генов. Мы получили первый позитивный опыт лечения и увидели то, что в следующей версии протокола должны были его усовершенствовать. Протокол принес нам известность в стране и за рубежом: до того младенческие лейкозы очень плохо поддавались лечению.
— Откуда возникает эта беда?
— Это ошибка генетического кода. Клетки внутри нашего тела делятся и дифференцируются (превращаются в более зрелые) каждые сотые доли секунды. Организм неизбежно ошибается, но иммунная система в норме распознает клетки с нарушенными функциями и беспощадно уничтожает их. У маленьких детей иммунная система еще не зрелая, плюс есть предшествующие факторы неблагополучия. Когда утрачивается контроль иммунной системы над процессами деления и созревания клеток, создаются условия для преимущественного выживания клетки-родоначальницы опухолевого клона. А дальше включаются механизмы опухолевой прогрессии. Заболевание можно обнаружить, когда количество опухолевых клеток достигает 10 в 12-й степени. Развитие опухоли происходит бурно, так что ребенок, когда ему ставят диагноз, имеет опухоль катастрофических объемов, около 1 кг веса, и колоссальное количество лейкоцитов — больше 100 тысяч (норма 6 — 8 тысяч). И самое главное, у 80% младенцев неблагоприятные перестройки в гене MLL не позволяют качественно вылечить лейкоз.
На какое-то время опухоль с помощью химиотерапии можно подавить, затем она возвращается. В мире врачи пытались увеличить интенсивность химиотерапии — это не помогало: дети погибали от токсических осложнений, а если выживали и достигали ремиссии, то ненадолго. Пробовали трансплантацию костного мозга — тоже не помогало. Заметили биологическое сходство острого лимфобластного лейкоза с миелобластным. В Европе и США в рамках больших многоцентровых исследований лечения младенческих лейкозов решили применить лекарства, которые эффективны при миелобластном, но и это не принесло желаемых результатов.
А нам в 2003 году пришла идея, что поскольку эти лейкозы у младенцев происходят из очень примитивных клеток, а ген MLL принимает участие в блоке дифференцировки, то надо этот блок каким-то образом снять. Мы решили включить в программу терапии препарат, который способен это сделать. Он называется ATRA (по начальным буквам All Trans Retinoic Acid — полностью трансретиноевая кислота) и применяется для лечения лейкозов старшего возраста. Мы добавили его к стандартной химиотерапии и получили неожиданно очень хороший результат у ребенка, у которого не было шансов. Подумали, случайность. Пробовали еще несколько раз — и вновь получилось. Поняли, что это, по-видимому, то средство, которое принимает непосредственное участие в перепрограммировании опухолевых клеток и направляет на иной путь дифференцировки и развития. После нескольких удач с нашими пациентами в 2006 году мы предложили наш протокол российским коллегам. Сейчас в этом российско-белорусском исследовании MLL-Baby участвует 24 клиники. А медицинская общественность оценила отечественное ноу-хау только в 2009 году.
— Почему так поздно?
— Мы должны были убедиться, что достигается долгосрочная ремиссия, а критерий здесь — пятилетняя выживаемость. После этого срока рецидивы возникают крайне редко. Когда мы увидели, что дети с 2003 года продолжают находиться в долгосрочной качественной ремиссии, хорошо себя чувствуют, опухолевых клеток больше нет, так как нет ни одной клетки с перестройкой MLL гена, тогда и рассказали об этом стране и миру на самых разных конференциях, конгрессах. В том числе в Америке в 2007 году на Всемирном конгрессе, организуемом Американским обществом гематологов. Хотя никто из нас тогда не входил в это общество, мне прислали приглашение выступить, а после приняли в действительные члены общества — по результатам работы.
— Зачем вам делиться этим с иностранными коллегами?
— Во-первых, в мире до нас не было успешных решений. Во-вторых, врачи отличаются от предпринимателей тем, что заинтересованы рассказать коллегам о том, что у них получается. Просто негуманно задерживать эту информацию у себя. Ее ждут семьи с больными детьми не только в России: приходят письма из Болгарии, Германии, Украины. Специалисты из других стран нам безвозмездно помогали. А теперь мы берем на учебу врачей, передаем эту эстафетную палочку. В нашей профессии все братья по духу, нас в мире немного.
— Почему вы не оформили патент?
— А что он даст? То, что это наше ноу-хау, в мире и так знают. Наши заявки на выступления и публикации с текущими результатами нашего протокола всегда с большим вниманием принимают на международных площадках. В этом году мы выступили в Мюнхене на международной конференции «Лейкемия ХIII», в Лондоне на конгрессе Европейской ассоциации гематологов, три работы принято на конгрессе в США. В мире признают наши приоритеты.
ЦЕНТР ЕСТЬ, РЕГИСТРОВ НЕТ
— Почему понадобилось создать центр гематологии и онкологии внутри детской больницы?
— К 2006 году стало очевидно, что не все технологии мы сможем применять. Не хватало важного раздела: трансплантации костного мозга. Чтобы внедрить этот метод лечения, надо было переоснащать все. Мы попросили тогдашнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя провести реконструкцию двух боксов, чтобы сделать два стерильных помещения для трансплантации. Он принял масштабное решение строить новый корпус. И привнести сюда самое передовое, что есть в мире. Свердловская область этот проект поднимала на внебюджетные деньги — пожертвования крупных компаний. У нас не было желания повесить хрустальные люстры над золотыми унитазами. Мы гнались за технологичностью и функциональностью. Немецкий генеральный подрядчик Transumed Medizintechnik GMBH все время вел с нами диалог.
В конце 2006 года мы успешно провели первую трансплантацию. Сейчас дошли до самого сложного вида трансплантаций — от несовместимых, но родственных доноров (мамы или папы), где специально моделируются механизмы подавления опухоли клетками донора. Таким образом, воздействуем на опухоль и имеем заинтересованного донора. Потому что, к сожалению, в нашей стране нет национального регистра доноров костного мозга. Мы вынуждены искать в зарубежных регистрах. Коллеги недоумевают: почему в России донорских регистров нет. Первые зачатки только появились — в Челябинске. В России многое еще делается на энтузиазме. Появляются первые банки пуповинной крови: в Самаре, Москве (Царицыно). Мы сделали первую пересадку пуповинной крови 10-месячной девочке с севера Тюменской области, а подходящую для нее кровь нашли в самарском банке. Очень хотелось бы, чтобы появился банк и в Свердловской области.
Они возвращаются
— Люди, которые входят в команду, — это ученые, практикующие врачи?
— Все в одной пробирке — врачи тире ученые. Развитие центра опирается на очень тесную мировую кооперацию профессиональных команд. Наука здесь идет от постели больного: есть ребенок, опухоль которого пока не удается вылечить. И возникают первые идеи. Моя задача сделать так, чтобы наша молодежь вступила в кооперацию с коллегами из других стран. У нас год специалист работает и едет смотреть лучшие лаборатории мира. Некоторые члены команды уже входят в группу международных экспертов, их приглашают на экспертные площадки наши европейские партнеры. Александр Попов ездил в Италию на заседание экспертного совета по проточной цитометрии. Александр Друй сейчас в Новой Зеландии, делает доклад на международном конгрессе детских онкологов. Он окончил Уральскую государственную медицинскую академию в 2010 году, победитель конкурса молодых ученых, удостоен губернаторской премии за работу «Молекулярные маркеры метастазов нейробластомы в костный мозг». Сумма вроде бы небольшая, 100 тысяч, на нее серьезную науку не сделаешь. Но ребята поняли, что нужны своей стране.
Сейчас в мире нас не просто воспринимают как специалистов, но охотно зовут выступать на самых уважаемых площадках. Мы привлекли к себе международное внимание. Нам надо соответствовать: поднимать уровень экспериментальной медицины.
— В Кремле при награждении вы обмолвились о грантах...
— О научных проектах, в рамках которых были бы гранты и для молодежи. Нам нужны средства для сложных экспериментальных исследований, подтверждающих наши научные гипотезы, которые клинически уже состоялись: мы увидели результаты у больных. Так поступает весь мир: подтверждает клинический эффект в эксперименте. Тогда ни у кого нет сомнений, почему и как это работает. А наши клинические успехи базируются на научных гипотезах. Вот Россия замахнулась сейчас на Сколково. Но наука развивается не только в Москве. Я нашу клинику с полным правом готова назвать научно-практическим центром. Мы должны иметь возможность развиваться дальше.
Сейчас изыскиваем средства для проведения очень сложных молекулярных исследований на клеточных культурах с использованием биочипов высокой плотности. Американцы и европейцы такие работы поддерживают государственными грантами. А у нас по-прежнему все на уровне большого желания людей, которые работают в клинике. Было бы правильно, если бы государство обратило внимание на фундаментальные проекты. Мы владеем жизнеспасающими технологиями лечения социально значимых заболеваний. Поиск эффективных методов диагностики и лечения таких заболеваний должен стать приоритетом для здравоохранения страны.
— Уже не происходит в центре того выгорания, которое вы застали?
— Выгорания больше нет. Во-первых, пришли технологии, во-вторых, результат. Когда ты получаешь хороший результат, это ни с чем не сравнимый восторг, тебя просто на крыльях несет вперед. Врач больше не остается наедине с пациентом и личными переживаниями по поводу его состояния. Мы каждый день обсуждаем всех больных, находящихся в клинике, все готовы подключиться. Мы моментально решаем текущие проблемы: этому провести дополнительное исследование, этого проконсультировать со специалистами, тому будем искать донора. Но все равно здесь непросто. У меня никто из 20 молодых не уехал на Запад. Они там нравятся, но я не боюсь. Я сама получала подобные предложения, например, от японцев.
— Почему они возвращаются?
— Потому что здесь они воплощают свои творческие планы, а там будут работать на идею чужого дяди.
«Каждый раз, когда наступал предел и хотелось сказать: ну все, пора заняться чем-то другим в жизни, происходило что-то хорошее, меняющее ситуацию. Теперь мне уже не страшно: мое дело команда подхватит в любой ситуации»
ЛУЧШИЕ В МИРЕ
— Каковы ваши результаты в сравнении с мировой практикой?
— По лечению младенческих лейкозов — лучше. Количество рецидивов не превышает 25 — 30%, а в известных клинических группах на Западе — от 45% и выше. Уровень безрецидивной выживаемости у нас — 60%, там — не более 40%. Это то, в чем мы лучше благодаря инновационному методу лечения. В Свердловской области онкологическая заболеваемость среди детей составляет 15 случаев на 100 тысяч в год, это абсолютно сопоставимо с тем, что на Западе.
Однако мы наблюдаем прирост онкологической заболеваемости год от года. Здоровье матерей — сложный вопрос, плюс так называемые «случайные» генетические перестройки. Смертность от детских онкологических заболеваний в Свердловской области одна из самых низких в РФ — 3,9 человек на 100 тысяч детского населения благодаря централизованной системе оказания помощи в регионе: эта модель создавалась у нас последние годы.
Очень важно врачам в других непрофильных клиниках вовремя заподозрить опухоль и направить ребенка к нам. Мы делаем все необходимое. Первое — устанавливаем точный диагноз опухоли. Для этого используется целый комплекс методик: современные визуализационные методы, компьютерную и магниторезонансную томографии, исследования в гамма-камере и ультразвуковые на УЗИ-аппаратах экспертного уровня. Дальше — подробнейшее исследование биологической природы опухоли. Забирается участок опухоли, ставится морфологический диагноз, проводятся молекулярно-биологические и имунно-гистохимические исследования на наличие генетических аномалий. Исследуются хромосомные поломки, проводится поиск нарушений в иммунной системе. Все это сложные и дорогостоящие методики, которые выполняются под крышей одной больницы. Это залог успеха, потому что в единицу времени делается большое количество исследований, чтобы поставить точный диагноз. А дальше нужно еще проверить, насколько лечение будет эффективно. Здесь мы используем очень тонкие иммунологические и молекулярные методы для того, чтобы поймать одну клетку опухоли на 100 тысяч, на миллион. В зависимости от уровня минимальной остаточной болезни мы можем интенсифицировать лечение либо редуцировать его, чтобы опухоль держать под контролем. Есть приборы и знания, которые позволяют это сделать.
По завершении лечения раз в три месяца, полгода и год детишки приходят к нам на контроль. Мы отвечаем за результат лечения, у нас больные не теряются в пространстве и времени. Постоянно работают дневной стационар и амбулаторный прием. Работаем на хорошем европейском уровне. Но все время появляется что- то новое, очень важное, чего нельзя упустить. Я, например, с большой надеждой смотрю на развитие ядерной медицины на Урале: недавно в УрФУ поставили циклотрон.
— Чего бы вам хотелось от нее?
— Нужны короткоживущие изотопы радиоактивного йода. Их не берется перевезти на Урал ни одна транспортная компания. К нам привозят технеций для проведения сканирования костей скелета, а у метайодбензилгуанидина период полураспада такой маленький, что привезти его невозможно. Есть больные, которым нужно проводить исследования с радиоизотопами йода для поиска метастазов нейробластомы — самой распространенной детской опухоли после лейкозов. Представляете нелепость: вместо того чтобы исследование проводить здесь, мы их отправляем в Москву.
Мы, безуслов но, выйдем с инициативой на наших ядерщиков: есть технологии, которые будут очень востребованы детскими онкологическими центрами. Я вам только что говорила про диагностику нейробластомы изотопами йода, а есть еще лечение ими: этот метод в РФ не применяется вообще, больные вынуждены ехать на Запад. Надо создать клинику ядерной медицины, где были бы не только изотопы для лечения, но и специальные условия для размещения там ребенка с родителями, утилизация отходов. При создании московского федерального центра эту технологию почему-то не заложили. Может быть, Екатеринбург, где будет открыт центр ядерной медицины, окажется на передовых рубежах. На Урале правильные тренды, их надо активнее развивать.
Дайте детям шанс
— У вас дети только из региона?
— Нет. Но больные приезжают любыми путями. Жутко несправедливо: инорегионалам, чтобы попасть сюда, надо найти благотворительную организацию. Хотя наша база готова принять, у нас есть и желание, и возможность помогать. Вопрос в пресловутом госзаказе. Нашей клинике нужен федеральный госзаказ на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям из других регионов. Мы имеем госзаказ только для Свердловской области, который осуществляется на условиях софинансирования: три четверти — федеральные средства, четверть — областной бюджет.
— Сколько стоит лечение?
— В среднем около 10 —15 тыс. долларов. Государство на одну госпитализацию выделяет 109 тыс. рублей на условиях софинансирования. Ребенок из другого региона не может здесь лечиться на равных условиях, потому что его регион не участвует в процессе софинансирования. В бюджетах ряда территорий таких денег нет. Но ведь помощь может быть оказана здесь, у нас. Просто нужна модель, по которой абсолютно официально клиники могли бы отправлять пациентов на лечение к нам.
— Кто может изменить ситуацию?
— Я лично обращалась к министру здравоохранения и соцразвития Татьяне Голиковой.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Отечественная разработка — долговечный ножной кран Sawy PKS21K с...ствлять запуск воды без использования рук. Кран обладает рядом преимуществ:
- Сегодня, когда вопросы экологии и экономии природных ресурсов встают в...уально для помещений с большим потоком людей и риском вандализма.
- Группа компаний ЭКОН УрФО объявляет о выпуске новой версии своего флаг...й душевой комплект SAWY NDSS 03 UMKСреди новых функций душа можно выделить:
Поделись позитивом в своих соцсетях

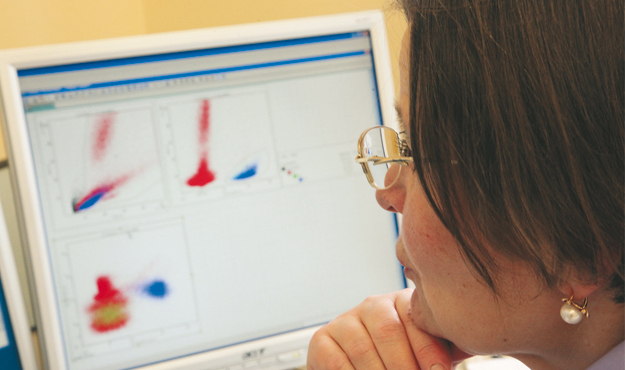




Комментарии 0